Что общего между хазарскими халатами XIX века и абстракциями Василия Кандинского? Где грань между прикладным искусством, призванным радовать глаз, и экспериментами в сфере чистого цвета и формы? Ответы на эти вопросы должна дать выставка Пушкинского музея «Восточный джаз», объединившая более 30 предметов текстиля, два десятка произведений живописи из западных собраний и шедевры графики из собственных фондов ГМИИ.
Белый зал и пространство вдоль главной лестницы в основном здании Пушкинский музей традиционно отдает под главные, самые важные выставки сезона. И зрители уже привыкли ожидать от таких проектов максимальной концентрации шедевров. Но кураторы «Восточного джаза» делают ставку на иное: оригинальную концепцию, сопоставляющую не только разные культуры, но и эпохи, стили и сами формы творчества.
Те, кто придет посмотреть на шедевры абстракционизма, возможно, будут разочарованы отсутствием главных имен. Да, здесь есть несколько работ Василия Кандинского, но только одна из них — на холсте, к тому же очень известная, из постоянной экспозиции ГМИИ, — «Импровизация № 20 (Две лошади)» (1911), а две других — небольшие, хотя и прекрасные, акварели. Другие российские гении беспредметности и вовсе не представлены. Что же касается западных имен, подборка выглядит очень случайной и фрагментарной: ну в самом деле, как можно обойтись без Джексона Поллока, Марка Ротко, Пита Мондриана, Жоана Миро?
Вместо них — Джоан Митчелл, Никола де Сталь, Ханс Хартунг, Антони Тапиес — фигуры весомые, но всё же не основополагающие. Видимо, такой задачи — устроить ликбез по абстракционизму — и не было. Скорее, кураторы стремились найти удачные «рифмы» с азиатскими орнаментами, и во многом это удалось. Например, гуашь «Листья и цветы» Александра Колдера выполнена в тех же цветах, что и шелковый зимний халат XIX века из Бухары, и их соседство наводит на мысль о том, что законы гармонии, цветовые сочетания, в общем-то, универсальны для всех культур.
К эффектным совпадениям относятся и все геометрические узоры. Отдельный отсек на выставке выделен под экспонаты с ритмичным чередованием черных и белых линий. На шелкографиях Франсуа Морелле рисунок менее плотный, чем на азиатских тканях, и в нем можно усмотреть внутреннюю драматургию, особое напряжение между различными элементами — этого, конечно, нет в орнаментах. И всё же первая реакция — «ух ты, это ведь почти одно и то же!».
Идея о влиянии неевропейского искусства (в том числе прикладного) на западных модернистов и основанные ими в начале XX века художественные течения, не нова: широко известно, например, о связи кубизма Пабло Пикассо с африканскими статуэтками и посудой. Но выводить весь абстракционизм из орнаментов Средней Азии — всё же натяжка. В ГМИИ вроде бы избегают таких грубых формулировок и предлагают просто увидеть общие корни у этих явлений. Однако поможет ли это публике понять суть беспредметной живописи? Или же, наоборот, укрепит в подозрении, что сотни безвестных портных из Узбекистана делали, по сути, то же, что звезды арт-мира, только продавали дешевле?
Ответ стоит искать в тех немногих работах на выставке, которые обыгрывают именно мотив одежды или текстиля. Например, ассамбляж «Кожаный галстук для композитора» Джима Дайна (1961) или висящий без подрамника холст «Просмоленные складки» Патрика Сэйтура (1973). Высокое искусство рождается в тот момент, когда концепция, отсутствующая у прикладных жанров, встречается с особой свободой воплощения — не создающей, а ломающей шаблон.
И в этом плане название выставки, апеллирующее к поздней графической серии «Джаз» Анри Матисса, представляется очень точным — пусть даже и музыки как таковой в залах ГМИИ не звучит. Музыкальный стиль в данном случае — синоним творческой свободы. А уж где ее было больше — на Западе или на Востоке, — зритель может решить сам.

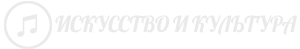







Оставить комментарий