Известны как минимум два воззрения на роль публики в театре. Первое пришло из актерских буфетов и выражается сакральным вердиктом: «Публика дура». Второе принадлежит Пушкину: «Публика образует драматические таланты». Автор «Бориса Годунова» и «Маленьких трагедий» полагал, что «заказчиком» пьесы является зритель, а причину различий между драмами Шекспира и Расина объяснял социальным составом зрительного зала: тут — народ, там — придворное общество. Умение угадывать желания публики давно стало профессией, имя которой — продюсер. Но если искусство действительно создает зритель, то что же остается на долю творца? Обсудим тему с театральным продюсером, режиссером, членом художественного совета театра «Практика» Эдуардом Бояковым.
Театр намеков закончился
— Вы создали более десятка театральных проектов, являетесь основателем нескольких театральных фестивалей. На все это, по-вашему, был зрительский запрос? — Это серьезный вопрос. Боюсь, что не смогу односложно ответить. Успешный проект — это встреча разных энергий. Я убежден, что развитие культуры, рождение на свет новых, значительных произведений случается только тогда, когда есть «санкция» сверху. Искусство откликается на идущую откуда-то с небес, можно сказать, божественную энергию. И главные поэты, главные продюсеры, главные художники своего времени — они проводники этой энергии. Они ее транслируют на холст, сцену, киноэкран… Но, с другой стороны, это совсем не значит, что публика готова принять транслируемую информацию. Поэтому чудо в искусстве происходит только тогда, когда и «низы», и «верхи» в равной мере созрели для него — то есть когда совпадают и зрительский запрос, и воля художника-пассионария.
— Театр «Практика», который вы создали в 2005 году, — плод такого совпадения?
— Наверное, да. Это был отклик на появление «новой драмы».
— А «новая драма», которую театр «Практика» пригрел под своей крышей, — она, в свою очередь, как возникла? Появился новый зритель, предъявивший запрос на новую драматургию? Или родилась «новая драма», которая потребовала себе нового зрителя?
— Это было встречное движение. «Новая драма» появилась, когда советский театр заканчивался, исчерпав свою великую миссию. Театр Товстоногова, Эфроса, Любимова, старый «Современник»… Это были великие театры. Они сформировали сознание наших родителей. Влияние этих театров на культуру трудно переоценить. Оно было невероятно сильным. Во-первых, потому, что во главе этих театров стояли большие художники. Во-вторых, потому, что театр в советское время был, как говорится, «общественной кафедрой». Стать такой кафедрой ему помогало то обстоятельство, что он меньше, чем другие виды искусства, был подвержен цензуре.
На европейских фестивалях невозможно увидеть, например, откровенно антигейский спектакль. Хотя полтора миллиона человек выходят на улицы Парижа, протестуя против однополых браков
— В каком смысле — меньше? Цензура была тотальной, и театр тоже страдал от нее.
— Театр в этом смысле находился в более выгодном положении. Скажем, кино имеет дело с готовым продуктом. Цензурировать кино — это значит отсмотреть материал в его завершенном виде. А потом заставить вырезать такой-то эпизод. И поставить печать: «Разрешено». На сдаче спектакля — другое дело. Там цензор видит, например, какой-то жест актера и не усматривает в нем ничего предосудительного. Уходит цензор, и на следующем спектакле пластика актера в этой же сцене несколько меняется. Актер поворачивает голову, допустим, в сторону портрета вождя, чего не делал на сдаче, и произносит текст про какую-нибудь, скажем, собаку. Появляется прозрачный подтекст, зал заряжается определенной энергией. Тысяча человек в том зале, в котором сидел цензор, видели одно, а тысяча человек, сидящих на следующем спектакле, видят совершенно другое. Такую «крамолу» практически невозможно «вырезать».
— Значит зрительская реакция — а театр искусство живое, сиюминутное — тоже формирует сценическое произведение?
— Естественно. Но то, о чем я сейчас говорю, было актуально в советское время. Тот театр — театр полутонов, намеков — он закончился. А начался он на заре века Чеховым, который принес подтекст в мировую драматургию и в русский театр. Закончился же этот театр в конце XX века. Потому что какие могут быть намеки, если едешь в Шереметьево, а вдоль дороги стоят шеренги проституток. Какие могут быть намеки, когда бандиты заходят в кафе и на твоих глазах отбирают выручку или позволяют себе то, что ты видел до этого только в ковбойских фильмах? Это время — конец 90-х, конец века — было в России настолько революционное, что театр с ним совершенно не справился, оказался глубоким аутсайдером. И он вообще бы умер, если бы не одна функция, которая, к счастью, осталась за ним. Психологи называют ее компенсаторной. То есть театр действует на социум успокаивающе. Людям важно знать, что жизнь, сколь она ни тяжела, все-таки продолжается, и в ней есть место прекрасному и стабильному. Ладно, 90-е пережили, но нынешние времена тоже не самые веселые, согласитесь. Нет уже проституток на Ленинградском проспекте, зато есть такие события, которые три-четыре года назад в страшном сне нам привидеться не могли. Например, военные действия в Донбассе. И вот тут театр оказывается важным и нужным, поскольку обладает успокаивающим, чтобы не сказать седативным свойством. Ты приходишь во МХАТ им. Горького, смотришь «Синюю птицу» и говоришь: ну хоть что-то в мире есть постоянное. Ты приходишь перед Новым годом в Большой театр, смотришь «Щелкунчик» и на тебя снисходит умиротворение: как хорошо, не совсем все рассыпалось, слава Богу.
— Но как раз «новая драма» седативным свойством не обладает. Она, наоборот, действует на зрителя возбуждающе.
— Это как революция и эволюция, это две фазы развития. Нельзя рассматривать одно в отрыве от другого. Для того чтобы авангардное явление произошло — а «новая драма», безусловно, было таким явлением, — нужно иметь то, с чем споришь. Чем сильнее соперник, тем важнее победа. И в этом отношении советский театр был достойным соперником «новой драмы». Я считаю, «новая драма» не проиграла этот бой. Его никто не проиграл, все только выиграли. И Чехов выиграл от «новой драмы», и Достоевский, и Толстой. Вот недавно Кирилл Серебренников поставил в Гоголь-центре «Кому на Руси жить хорошо» — я думаю, Некрасов выиграл от этого. Русская классика выигрывает благодаря тем процессам, которые мы запустили в «новой драме», она получает возможность интерпретаций, не скатывается в исключительно музейные форматы. Происходит актуализация театрального языка, приходят новые темы, новые герои, возникают новые сценические технологии, новая антропология. У человека, который родился и вырос в пространстве вай-фая, — у него другой жест, он по-другому на часы смотрит, по-другому очки снимает… У него все по-другому. И это влияет не только на наше общение с экраном, это очень сильно влияет на нашу любовь, на нашу семью, на нашу молитву, на нашу повседневную глубокую практику, на наши отношения с родителями, друзьями. Нам кажется, что все стало доступнее, что появилась возможность чаще быть вместе, чаще коммуницировать, больше узнавать о близких. А на самом деле мы скатываемся в ситуацию постоянной имитации, беготни, суеты. И это страшная для всех нас проблема.
— Театр все это должен учитывать и тоже меняться?
— Да, конечно. Театр не может не исследовать это на уровне сюжетов, на уровне тем, на уровне языка. Да тот же мобильный телефон, которого не было пятнадцать-двадцать лет назад, — это серьезная тема. И наш язык, процессы, происходящие с речью, — это тоже должно становиться предметом театрального исследования. Многие воспринимают театр как некое приложение к литературе. Дескать, театр работает с прозой. Пусть даже с драматургической, но прозой. Нет, театр работает не с литературным слогом, а с речью. С оговорками, с междометиями, с интонациями, со звуком, с тем, как слово сопровождает жест. Театр работает с такими вещами, с которыми проза и даже поэзия не могут разобраться. Задача театра в данном случае — фиксировать состояние сегодняшней речи, что когда-то сделал Грибоедов, создав речевые портреты героев своей бессмертной пьесы. Театр — это зеркало времени. Мы сейчас с Алисой Гребенщиковой, Павлом Артемьевым, Алиной Ненашевой и Юлией Волковой работаем в «Практике» над спектаклем «Наше». Он имеет подзаголовок: «Стихи, которые нас меняют». Читаем Гумилева, Ахмадулину, Бродского и Веру Павлову. Это такое психоаналитическое наблюдение над тем, что произошло с нашей речью, с нашими нравами. Мы обнаруживаем слова, которые кажутся нам сегодняшними, а выясняется, что они существовали еще в начале прошлого века. Очень интересные параллели — если конечно честно разбираться со смыслом, а не демонстрировать кривляние и ужимки, которые часто сопровождают поэтические чтения даже в академических театрах.
Любой творческий человек должен считаться с культурной средой и быть готовым к противостоянию
— Лет шесть назад из Москвы в Пермь на освоение «целинных и залежных земель» российской культуры устремились галерист Марат Гельман, артист Евгений Миронов со своим фестивалем «Территория», композитор Владимир Мартынов, авангардные драматурги, художники, музыканты… Вы тоже входили в эту команду, основали в Перми экспериментальный театр «Сцена — Молот». Он жив еще?
— Я плохо знаю, что происходит сейчас в Перми.
— Как я догадываюсь, этот театр перестал существовать?
— Он сильно изменился и существует фактически как малая сцена Пермского академического драматического театра.
— Значит все же искусство во многом создается зрительской средой. В случае с Пермью — средой провинциальной. Вам придется признать, что идея превратить Пермь в культурную столицу изначально была утопической.
— С этим можно поспорить. Было бы ошибкой говорить о полном провале пермского проекта. Он очень сильно повлиял на Пермь. Он воспитал поколение молодых профессионалов. К сожалению, часть из них уехала из города. И он воспитал публику, которая заполняет сегодня залы на спектаклях Курентзиса.
Сегодня мне интереснее та часть массовой аудитории, которая не отягощена навязанными нам за последние двадцать лет потребительскими западными форматами и ценностями
— Вам приходилось в Перми преодолевать инерцию культурного застоя, культурного провинциализма?
— Еще как! Но так всегда бывает, и не только в провинции. Какой жуткий скандал в свое время разразился в Париже на премьере балета Стравинского «Весна священная»! Публика свистела, улюлюкала, возмущалась. Автора и музыкантов чуть не побили. Пермякам, скажу вам, далеко до той категоричности, радикальности, которая была у парижан. А какие скандалы разворачивались в том же Париже вокруг Сергея Щукина (московский купец и коллекционер искусства. — В.В.)! Подумать только, какой-то русский нувориш покупает Матисса за огромные деньги! Весь французский истеблишмент, вся, говоря сегодняшним языком, тусовка были страшно озлоблены. Газеты устраивали Щукину дикую травлю, издевались, смеялись над ним. А сегодня это самая дорогая частная коллекция импрессионистов. Я себя не сравниваю со Стравинским и Щукиным, просто хочу сказать, что любой творческий человек должен считаться с культурной средой и быть готовым к противостоянию.
— Ваш недавний опыт в вузе (с 2013 по 2015 год Бояков возглавлял Воронежскую государственную академию искусств, но был вынужден покинуть ее. — В.В.) вас в этом тоже убеждает? Эта среда вас отторгла?
— Да, я ушел из академии, но это не значит, что был отторгнут. Не знаю, насколько уместны здесь футбольные аналогии, но даже тренеры, которые добиваются больших успехов с командой, через два-три года бывают вынуждены уйти. Так недавно случилось у Моуриньо с «Челси». Точно так же и у нас в театральной жизни. Прийти в какой-то театр, сделать в нем что-то достойное, важное, честное, интересное, а потом оставить его или вообще уехать из этого города — это абсолютно нормально. Я создал театр «Практика» как демиург, потом ушел из него, передав бразды Ивану Вырыпаеву. Теперь я опять здесь работаю, но уже в команде. Я член худсовета, который отвечает за репертуар, художественную стратегию, но нагрузка по хозяйственному управлению театром лежит на его директоре Юрии Милютине. Это позволяет мне заниматься другими проектами — например, готовить большую премьеру в Розе Хутор, в Олимпийской деревне — спектакль про историю Кавказа.
Деление искусства на массовое и элитарное, отстойное и продвинутое уже не работает
— Судя по вашим театральным проектам, вы адресуетесь к продвинутому зрителю и никогда не делаете ставку на массовую аудиторию, хотя в коммерческом отношении она более привлекательна. Или в работе на интеллектуальную, эстетически развитую публику тоже есть какой-то расчет?
— Как раз сегодня меня больше интересует широкий зритель. Для него я делал выставку соцреализма в Манеже, для него готовлю проект на ВДНХ и в Розе Хутор. Об этом зрителе я думаю, когда обсуждаю проект с Хором Сретенского монастыря, проект в Крокус Сити Холле. Сегодня деление искусства на низкое, попсовое, «отстойное» с одной стороны, и высокое, элитарное, продвинутое, актуальное с другой, — не работает. Вдруг оказывается, что какая-то часть массовой аудитории намного умнее, тоньше, чем так называемая «избранная» публика. Лично мне, скажу честно, аудитория сочинского курорта сегодня в десятки раз интереснее, чем аудитория московского академического театра. Мне не интересно придумывать спектакли для академических театров, потому что это обслуживание всего нескольких форматов. Хорошо ли, что есть формат? Хорошо. Я не воюю с ним, как это было, когда мы создавали движение «новой драмы». Но сегодня мне интереснее та часть массовой аудитории, которая не отягощена навязанными нам за последние двадцать лет потребительскими западными форматами и ценностями.
— Что вы имеете в виду?
— Я имею в виду узкую, не работающую с широким зрителем субкультуру театрального авангарда с его жесткими границами.
— Вы смотрели в Театре наций «Сказки Пушкина», поставленные Бобом Уилсоном?
— Смотрел. Скучный спектакль. Далеко не лучший у этого режиссера. Это такая развлекуха для богатых людей, и всё. Ни смысла, ни поэзии там нет и в помине, что бы критики ни выдумывали.
— А постановки Хайнера Геббельса, Томаса Остермайера?
— То же самое. Много внимания форме. Много разговоров про постдраматический театр. Много умничанья. Много красивых картинок. И отсутствие настоящей энергии, силы, смысла. Это концептуальное искусство. Искусство, которое говорит о чувствах, но не чувствует. Говорит о душе, но не имеет души. Голые концепции. Названные вами имена не выдерживают сравнения не то что со Стрелером, а даже со своими прямыми предшественниками — поколением Франка Кастрофа и «Фольксбюне». По моему, Кастроф — последний большой европейский режиссер. Кстати, очень много русского поставил, от Достоевского до Сорокина, от Чехова до Лимонова. После Кастрофа фестивальный европейский мейнстрим развернуло в сторону замороченных, нарциссических экспериментов. Остермайер, Фабр и Лепаж Лимонова уж точно не будут ставить… Они, конечно, любят рассуждать о жизни бедняков в Эфиопии, вещать о холокосте или истерить на антивоенную тему, заливая сцену красной краской, но на самом деле они очень буржуазные, эти люди.
— Я был уверен, что вы сторонник такого искусства.
— Я сильно изменился за последнее время.
— Вы некую эволюцию пережили?
Серьезную. Не только я. Страна изменилась, особенно за последние три года. Вот, например, вспоминаю мое общение, сотрудничество с Валерием Гергиевым десять, пятнадцать лет назад. Мне кажется, мы были во многих отношениях другими людьми. Тогда, сидя на спектаклях, представляющих западный театральный авангард, я верил, что это поиск, какое-то движение к новому. А сегодня я вижу, что это чистая политика, чистая конъюнктура. Под видом авангарда идет обслуживание очень конкретных смыслов, ценностей, ролевых моделей. Сейчас на Авиньонском или Эдинбургском фестивале невозможно увидеть, например, откровенно антигейский спектакль. Хотя полтора миллиона человек выходят на улицы Парижа, протестуя против однополых браков. Где фильмы и спектакли о том, что огромная часть общества не приемлет подобные семьи? Какие фестивальные режиссеры обслуживают эту полуторамиллионную протестную аудиторию? При этом я не утверждаю, что сегодняшнее западное искусство абсолютно «форматное» и либералистское. Вот, скажем, фильм Ларса Фон Триера «Рассекая волны» — это великое христианское кино. Думаю, его надо показывать всем, и разговор о христианстве следует вести в том числе через этот фильм.
Борьба с либеральными стереотипами и клише должна вестись через свободу, через поиск, а не через навязывание новых стереотипов. Наша культура потенциально намного шире и сильнее этих клише. Нам нечего бояться. Русская история, русская культура, православие, традиции, наш социальный уклад — это великие ценности. Они должны быть актуализированы через современный язык, современную коммуникацию. Если мы хотим жить в независимой и свободной России, то думать надо не только о военной промышленности, но и о сегодняшнем символическом поле — именно здесь надо быть конкурентоспособными. Поэтому сегодня как никогда нужны новые культурные герои, новое поколение художников. Это поколение, я убежден, возникнет не в среде сегодняшнего культурного истеблишмента, сегодняшней номенклатуры — условно говоря, не в театре Александра Калягина или Надежды Бабкиной, а именно в результате размывания, смещения границ между «массовым» и «продвинутым», «глобальным» и «патриотическим». За этим процессом очень интересно наблюдать. Я думаю, что мы на пороге очень интересных явлений в нашей культуре.

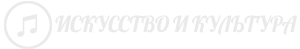







Оставить комментарий