Сегодня в венской Альбертине открывается для публики большая выставка-ретроспектива, посвященная творчеству Альбрехта Дюрера. Об одном из главных выставочных событий мирового сезона рассказывает Сергей Ходнев.
Даже на фоне дальнейших чудес, которые на эту осень заготовили европейские музейные гранды (Леонардо в Париже, Бернини плюс Караваджо в той же Вене и так далее), выставка не перестает выглядеть сенсацией. Дюжина собранных со всего света дюреровских картин, которые в ближайшие месяцы можно будет увидеть в Альбертине,— только часть этой сенсационности, хотя и немаловажная. Даже столь неуступчивый в последнее время музей Уффици все-таки отпустил в Вену свое «Поклонение волхвов» — образцовую встречу североевропейской священной нарядности с классицизирующей гармонией итальянского Кватроченто. Чем изрядно украсил рассказ об исследовательском прогрессе Дюрера-живописца — от чудного лондонского «Св. Иеронима» с умильно-лубочным львом до прибывшего из Прадо портрета безбородого мужчины в шляпе (1521): незнакомец, вроде бы торговец, но притом с гордой думой ренессансного тирана на победительно выписанном лице.
Без знаменитых гравюр на выставке тоже не обошлось, но они так, сопроводительный материал: если, мол, вдруг не помните «Большие Страсти», или «Жизнь Марии», или «Меланхолию», то вот. Особняком стоят разве что сюжеты, связанные с тиражной графикой Дюрера как средством (и прибыльным средством) массовой информации. Или документальным, как в случае портретов Филиппа Меланхтона и других персон, важных для симпатизировавших и Реформации, и гуманизму германских горожан. Или учено-панегирическим: из всех графических экспонатов самый грандиозный в буквальном смысле — колоссальная (3,5 м в высоту) раскрашенная гравюра с витиеватой триумфальной аркой, испещренной генеалогическими ветвями, портретами, девизами и батальными сценами. Великий монумент одновременно и «бумажной архитектуры», и поздневозрожденческой имперской идеологии Дюрер таким образом «воздвиг» в честь императора Максимилиана I, своего собеседника, своего покровителя и своей самой высокопоставленной модели в том числе.
Но самое важное и самое громкое — сотня с небольшим листов, из которых большая часть обычно покоится в тщательно охраняемой подземной сокровищнице Альбертины. Последний раз рисунки Дюрера музей показывал в таком количестве 16 лет назад. Когда достанет их в следующий раз — кто знает.
«Заяц», превратившийся практически в тотемное животное венского музея, «Большой кусок дерна», «Руки молящегося» и десятки других рисунков оказались в венских запасниках совсем не по той сложной логике, по какой чаще всего формировались большие графические собрания: медленно, по листику, с аукционами, перекупщиками, чудесами случайных находок. Все куда проще и благороднее: эта коллекция по прямой линии восходит к тому собранию, которое хранилось в мастерской самого Дюрера. Его сначала разделили на две части, которые к концу XVI века воссоединились в великой коллекции императора Рудольфа II, пражского меланхолика, чародея и прозорливого ценителя искусств. Из Праги листы перекочевали в Вену, где в конце XVIII века на них положил глаз основатель Альбертины герцог Альберт Саксен-Тешенский. Пользуясь попустительством придворных библиотекарей, стеснявшихся отказывать свойственнику императорской семьи, герцог в конце концов почти честно выменял всего Дюрера на гравюры из своей коллекции (половина его приобретения, правда, во время наполеоновских войн растеклась по лавкам антикваров, а потом и по другим музеям мира).
К выставке ее куратор Кристоф Мецгер, как водится, отчитался об исследовательских достижениях. Уточнен ряд датировок, подправлены некоторые атрибуции (так, в безусловные дюреровские работы окончательно записаны так называемые «Зеленые Страсти» — виртуозная серия евангельских сцен на зеленой бумаге). А сам свод рисунков из венского собрания предлагается рассматривать не как подборку эскизов, штудий, случайно попавшихся под руку больших удач, образовавшуюся по наитию,— нет, это тщательно выстроенная «витрина» дюреровской мастерской, всесторонняя коллекция exempla, образцов того, что было подвластно методу Дюрера-рисовальщика, Дюрера-наблюдателя, Дюрера-мыслителя.
И это не просто хладный академический постулат. Структура выставки проста и отчетлива: Дюрер и Мантенья, Дюрер и нагота, Дюрер и Нидерланды, Дюрер и Рафаэль (они ведь обменивались рисунками, хотя иногда кажется, что существовали в каких-то параллельных вселенных). Но подспудно в ней действительно тут и там проступает почти мистическая жажда познания, по накалу сравнимая с экзерсисами Леонардо. Только там, где последний анатомирует видимую действительность, «германский Апеллес» с азартом всматривается в изменчивые внешние формы. Будь то с беспримерной скрупулезностью увиденные былинки, разноцветные переливы оперения птицы сизоворонки, славная коровья морда или же предмет, за которым далеко ходить не надо, дюреровские автопортреты тоже начинаешь воспринимать иначе.
С первым из них (зарисованным серебряным карандашом 13-летним щекастым отроком) все понятно, но вот рисунок 1499 года из веймарского собрания, где Дюрер, слегка наклоняясь к зрителю, стоит в рост абсолютно голым, обескураживает. Саженных зеркал тогда не было, были только круглые и выпуклые, вроде того, что висит на стене у четы Арнольфини,— целиком себя в такое не увидишь, надо методично, любовно и с иррациональной пристрастностью вглядываться в себя по кусочкам. Как в другом, юношеском рисунке, где пальцы художника то держат травинку, то складываются в кукиш.
Эразм Роттердамский именно графику Дюрера хвалил за то, что тот изображает «даже то, что невозможно изобразить,— огонь, лучи, гром, зарницы, молнии, пелену тумана, все ощущения, чувства, наконец, всю душу человека, проявляющуюся в телодвижениях, едва ли не самый голос». Не невозможно, но трудно соединить образ сметливого мастера, прагматично боровшегося за свои авторские права, когда юридического представления о них даже толком и не было, и страстность замкнутого наблюдающего ума. Настолько своенравного и нелинейного, что почти разочарованием кажется предъявленная разгадка того же «Зайца». Оказывается, длинноухий русак с отражающимся в зрачках окошком, вырисованный краше мадонн и краше императоров,— это всего-то риторическое упражнение на тему античного анекдота о художнике Полигноте, столь правдоподобно изобразившем зайца, что афинским обывателям казалось, будто он вот-вот спрыгнет со стены.

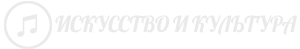







Оставить комментарий