Это был сюрприз не только по фактуре — фестиваль всемирно известного оркестра — Российского Национального, открылся без участия самого оркестра, но и по своей сути: Михаил Плетнев крайне редко выступает в качестве пианиста. В новом филармоническом зале имени С.В. Рахманинова прозвучали цикл Франца Шуберта «Зимний путь» (с немецким баритоном Штефаном Генцем) и сольная программа из сочинений Баха, Грига, Моцарта.
Между тем парадоксальный ход Михаила Плетнева, отправившего публику на открытие фестиваля в Олимпийскую деревню и выбравшего вместо оркестровой партитуры мрачноватый шубертовский цикл «Зимний путь» — 24 песни на стихи немецкого поэта-романтика Вильгельма Мюллера, с их романтической коллизией одиночества героя, его отверженности, утраченных иллюзий и пессимизмом жизненного пути, ведущего к смерти и кладбищу, — вполне соотносится и с плетневской «харизмой», и с тем, как выдающийся музыкант ощущает себя на современном рынке концертной жизни с ее бесконечным агоном виртуозов и жесткой терминологией — «прибыль-продукт». Плетнев в эти «игры» не играет и намеренно выступает в отдаленных, не центральных залах, куда публика вынуждена иногда добираться на перекладных. Постоянным аншлагам на его концертах это обстоятельство не мешает. Так было и в новом зале «Филармония-2», где Михаил Плетнев выступал впервые.
Плетнев намеренно выступает в отдаленных залах, куда публика вынуждена иногда добираться на перекладных
Главное, что подарил публике Плетнев на своих концертах — это пиано: уже забытое — тихое, более тихое, еще более тихое, почти неслышимое, воздушное, бесплотное — пиано, которое услышать в сегодняшних концертных залах почти невозможно. Это пиано Плетнева было на грани чуда: оно трепетало в нежной музыкальной ткани первой шубертовской песни «Чужим пришел сюда я, чужим ухожу», которую Плетнев с баритоном Штефаном Генцем исполняли, словно боясь спугнуть сам феномен звука, всплывающий в миражах памяти героя, это пиано застывало тихими «каплями слез», переходя в хрупкое нежное анимато в воспоминаниях героя о своей давней возлюбленной («Оцепенение», «Липа»), бесплотно растворялось на педали в песне «Отдых». Шубертовский путник у Плетнева и Генца не исповедовался и не переживал собственную жизнь, а словно вглядывался куда-то, уже находясь по ту сторону, за оградой кладбища, и пугаясь обступающих его призраков далекой уже собственной жизни. С шопеновской траурной мерностью тихо постукивало остинато в «Путевом столбе», хоралльность просвечивала в плетневском пианиссимо «Мнимого солнца», пока наконец звук рояля не истончился в печальном рефрене финальной «Шарманки».
Если плетневское пиано в шубертовском «Пути» звучало тихим реквиемом страдающей человеческой душе, то в Органной прелюдии и фуге Баха это пиано словно сняло пышные «облачения» фортепианной обработки Листа, заставив вслушиваться в совершенную баховскую полифоническую структуру, точную, как математические формулы. В Григе плетневское пиано уже струилось бесплотной красотой «ноктюрна» во второй части Сонаты ми-минор и возвращалось к скорбному реквиему в Балладе на норвежские темы. И даже с ювелирной точностью соединяло григовскую «троллевскую» ритмику с артикуляциями джазового формата.
И в этом же тихом, «пианном» формате прозвучали три сонаты Моцарта (ре мажор, K. 311, до минор, K. 457, фа мажор, K. 533). Здесь можно было вспомнить только Моцарта Горовица с его ускользающей красотой звука на пианиссимо. У Плетнева же пианиссимо полностью заполнило моцартовский текст, истончило до «бисера» все его пассажи, превратило в кружевоего аккорды, высветлило всю моцартовскую драматургию, зазвучавшую вдруг как непрекращающаяся сияющая звуковая бесконечность, тот совершенно над-мирный моцартовский текст, который считается чудом музыки. И Плетнев владеет ключом к этому чуду — пиано.

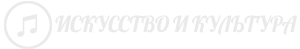







Оставить комментарий