Елизавета Леонская уже более 35 лет живет в Вене, удостоена высших отличий Австрии, однако ее продолжают называть «русской пианисткой» и ссылаются на закрепившееся за ней неофициальное звание «последней гранд-дамы советской пианистической школы». В начале своей карьеры она была избрана Святославом Рихтером для игры в четыре руки и с тех пор считается носительницей его традиции в пианизме. Десятилетия вдали от Родины, выступления на главных концертных площадках Европы и Америки не прерывали ее связи с русской культурой — достаточно вспомнить ее дружбу с Иосифом Бродским, который посвятил ей два своих стихотворения. С 1991 года, когда Рихтер пригласил ее участвовать в фестивале «Декабрьские вечера» в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, Елизавета Леонская регулярно выступает в России. В декабре 2016 года состоится ее выступление в Большом зале Московской консерватории и сольный концерт в музее-квартире Рихтера на Большой Бронной. Недавно Елизавета Леонская исполнила в Венском Концертхаусе цикл из шести концертов «Все сонаты Франца Шуберта». Отмечая также в этом сезоне свой юбилей, пианистка дала интервью специально для «Российской газеты».
— Вы исполнили «Все сонаты Шуберта» в венском Концертхаусе. Шуберт для Вены — наверное, самый родной, свой композитор. Он здесь родился, прожил свою недолгую жизнь, здесь похоронен. Вам это ощущение соседства помогало или мешало?
Елизавета Леонская: Относительно того, что Шуберт очень «венский» — это, конечно, кое-что объясняет, но требует более точного ощущения или понимания. Таким же венским, австрийским был Моцарт. Но Шуберт родился в Вене, жил в Вене и вращался не в аристократических ее кругах, где другие культуры имели большое влияние, а все-таки в средних венских бюргерских кругах. И время, и те круги, и его личность, и его работа с поэзией — вот что важно. Ведь он стал знаменит, прежде всего, своими песнями. Для меня имеет значение то, что он соприкасался с большим количеством литературных, поэтических текстов. Это, конечно, расширяло его ощущение мира, давало глубину.
В отличие от Бетховена или, к примеру, Шумана, которые уже в первых опусах были непревзойденными мастерами, Шуберт в ранних сонатах — далеко не тот образ безграничного лирика, а позже великого трагика, который в нас живет. Приведу в пример сонату ля-бемоль-мажор, которую, если не знать, что это Шуберт, можно принять за неизвестную сонату Гайдна. Чрезвычайно интересно наблюдать от сонаты к сонате его семимильные шаги к самому себе и своему стилю.
— А как вы составляете программы? Например, в этом цикле вы комбинировали в каждом концерте ранние сонаты с поздними.
Елизавета Леонская: Вы знаете, я летела сегодня в самолете и читала книгу, которую мне подарили недавно — философа Мартина Бубера. И там я наткнулась на то, что я всегда ощущала. Когда мне задавали этот вопрос, я с некоторым смущением говорила, что я не придумываю идеи, а они возникают. А у Бубера я нашла, что наши идеи — они существуют. Но не в нашей голове и не придуманы нами. Мы на них наталкиваемся или они наталкиваются на нас. Я думаю, так со мной и происходит. Программа вдруг возникает. И почти всегда это убедительно. Как видение.
— Вас часто называют последним представителем великой российской, советской пианистической школы…
Елизавета Леонская: О, это кто-то однажды сказал и все повторяют!
— Тем не менее, как вы могли бы охарактеризовать российскую пианистическую школу?
Елизавета Леонская: Как многоликую! В ней самые разные личности. И не только сейчас. Всегда были различные направления в пианизме. Если мы вспомним великие имена — никто из них не был одинаковым. Нейгауз был одним, Гольденвейзер был другим, а Файнберг — совершенно третьим. Игумнов, Софроницкий, Рихтер, Гилельс — мы можем их сравнивать. Но они совершенно не равны. Они расходятся, как лучи в разные стороны.
— Кого из музыкантов следующих за вашим поколений — и не только пианистов — вы знаете и цените?
Елизавета Леонская: Мне очень импонирует талант Даниила Трифонова, китайской пианистки Южи Ванг. Сейчас просто вулканическое извержение высоко одаренных тинэйджеров. Среди дирижеров я большая поклонница Тугана Сохиева.
— А происходит ли вообще развитие пианистического искусства?
Елизавета Леонская: Несомненно. С новым репертуаром и с накопившимся опытом. Слово «виртуозность» вообще ничего уже не означает. Точно так же, как все сегодня пробегают, скажем, 200 метров за двадцать секунд. Это могут уже не два человека в мире, а гораздо больше. Но те хорошие и замечательные молодые пианисты, которых я слышала, — прежде всего, талантливые, прекрасно наученные и интересующиеся. И мир открыт им. У них гораздо больше информации обо всем.
— А всегда ли хороша информационная открытость для искусства? Недавно в Вену приезжал на гастроли Театр балета Бориса Эйфмана из Петербурга, и Эйфман говорил, что, когда он начинал в 1970-е годы, у него было желание преодолеть канон советского балета, но при этом не было интернета, он не знал, что происходит в мире, и в итоге возник самобытный стиль.
Елизавета Леонская: При этих словах я вспомнила Иосифа Бродского. Ведь он уже был Иосифом Бродским до того, как он познакомился с Оденом. Потом он изучил Уистона Хью Одена. И мы совершенно не знаем, как это его изменило и как это его обогатило. Может быть, в этом ответ? Каждый — такой, какой он есть. Самобытный. Но все, с чем художник сталкивается, его обогащает. Интернет дает информацию, конечно. Другое дело — что мы делаем с этой информацией.
— А чем вас как музыканта обогатила дружба с Бродским?
Елизавета Леонская: Ощущением масштаба таланта и творчества. Всегда было ощущение, что я общаюсь с гением. Было невероятно приятно с ним общаться и ощущать его горячее человеческое сердце, но при этом мое преклонение перед ним было огромным — и остается таким же. Я виделась с ним, когда бывала в Нью-Йорке — с середины 1980-х и до января 1996 года, когда его не стало. Однажды он посетил меня в Вене, когда читал здесь лекцию.
В январе 1996 года я была у него в гостях в пятницу вечером, а скончался он в ночь на воскресенье. Я играла тогда с Нью-Йоркским филармоническим оркестром очередной концерт Чайковского, а по пятницам у них бывает дневной концерт. В шесть часов вечера мы с моим другом Алексанром Сумеркиным, с которым Бродский сотрудничал, были приглашены на ужин у Иосифа дома. В этот вечер он мне надписал книжку, грызя карандаш:
«Стихи дарю Елизавете.
Прошу простить меня за эти
Стихи, как я, в душе рыча,
Петра простил ей Ильича»
— То есть он Чайковского не любил?
Елизавета Леонская: Да, он романтическую музыку не любил слушать. Она ему казалась чрезмерной. Он любил классику, и я его понимаю. Когда он работал, он вертел все время пластинки Гайдна, Монтеверди, иногда Моцарта. Все, что было позже, я думаю, его не настраивало на рабочий лад. Пульс этой музыки его не вдохновлял.
— Вы всегда охотно говорите о вашем сотрудничестве с Рихтером. Люди, воспитанные на Рихтере, когда слушают другого пианиста, невольно думают: «а как бы это играл Рихтер?».
Елизавета Леонская: Знаете, сначала я со слепой верой приняла все, о чем Святослав Теофилович говорил и как он играл, — настолько это было однозначно убедительно. Мне даже в голову не приходило, что можно что-то делать иначе. Но совершенно подражать ему бессмысленно, да и невозможно. И когда меня что-то ведет по-другому, я это сверяю с ним, и вижу, насколько его музыкальное мышление абсолютно. Как он действительно подчиняется логике текста, не позволяя себе ничего своего, и, благодаря этому, какое появляется течение мысли в тексте.
— При всем признании величия Рихтера, довольно сложно сформулировать, в чем же оно все-таки заключается?
Елизавета Леонская: Некоторое ощущение того, в чем уникальность Рихтера, у меня есть. Ведь многие даже очень знаменитые пианисты играют метр — то есть рамку, такты, а не ритм. А в игре Святослава Теофиловича совпадает ритм с метром. Есть свободная игра, вне такта, rubato. Есть метрическая игра, которую мы обычно называем академической. Она полностью подчиняется метру, такту, последовательности сильных и слабых долей. Но метр — это не ритм. Он убивает музыку. А есть ритм, который заключен в ведении фразы и гармонии. Святослав Теофилович делает так, что это почти всегда совпадает с метром. Из-за этого возникает какой-то музыкальный пульс, который всех пригвождает к стулу.
— Наше время знает целую плеяду выдающихся пианисток. Помимо вас, это Марта Аргерих, Мария Жоао Пиреш, Элисо Вирсаладзе. В то же время, живо старое клише относительно того, что есть женская игра и есть мужская игра?
Елизавета Леонская: Ну, во-первых, я не считаю себя выдающейся. А, во-вторых, что здесь имеют в виду? Если просто играть громко или, как говорил Генрих Густавович Нейгауз про одну пианистку, «мешок с октавами», это еще не значит, что это мужская игра. Мне кажется, в идеале женская и мужская идея отличаются в отношении к тексту. Так, у мужчин, я думаю, более точное видение общего. Возьмите Григория Соколова — в его игре я просто поражаюсь продуманности каждой детали в сочетании с целым. У женщин есть спонтанность, замечательный звук и большая воля в исполнительстве.
— Вы ощущаете себя русской пианисткой, австрийской, европейской или мировой?
Елизавета Леонская: Я думаю, все-таки русской. Дело в русской школе, в русской культуре. Я приехала сюда, в Вену только в 33 года. Хотя я действительно много работала потом над тем, чтобы здешняя культура стала моей, это все же очень трудный процесс. Вы говорите, что венцы чувствуют Шуберта. Мы же не знаем, какими фибрами! Но это действительно так. Даже самый глупый венец почувствует, что Моцарта или Шуберта играют не так. Он не сможет объяснить, почему. Но он это почувствует.

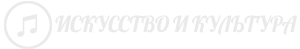







Оставить комментарий