Московский электротеатр «Станиславский» под руководством Бориса Юхананова показал премьеру спектакля знаменитого немецкого музыканта и композитора Хайнера Геббельса «Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой». Рассказывает РОМАН ДОЛЖАНСКИЙ.
Московская афиша пополнилась еще одним важным именем — немецкий композитор и режиссер Хайнер Геббельс, безусловно, принадлежит к первому ряду знаменитых театральных новаторов. Когда более десяти лет назад Чеховский фестиваль впервые привез его спектакль в Москву, трудно было представить себе, что в столице появится театр, который, во-первых, «потянет» Геббельса (не столько даже финансово, сколько с точки зрении логистики и технического обеспечения), а во-вторых, позволит себе содержать такой спектакль в репертуаре. Так что внимательный, готовый смотреть спектакль Геббельса московский зрительный зал — впечатление не менее отрадное, чем собственно представление.
«Макс Блэк…» — сложная партитура, и слово это лучше других подходит к сценическим сочинениям Геббельса, остающегося в театральной режиссуре, которой он начал заниматься довольно давно, еще будучи композитором. Кажется, все, что есть на сцене, служит для автора спектакля прежде всего выражением звуковых начал. При этом на сцене есть все, что положено иметь в нормальном с точки зрения обывателя театре,— актер, текст и предметы. Кстати, так бывает не всегда: в «Вещах Штифтера», одной из самых радикальных постановок Геббельса, актеров не было вовсе, это был «театр предметов» в чистом виде. В «Максе Блэке…» актер есть — Александр Пантелеев, вместе с ним Геббельс сделал московскую версию этого спектакля, премьера которого состоялась в конце прошлого века в знаменитом театре «Види-Лозанн».
Зритель видит на сцене лабораторию ученого, сплошь заставленную объектами. Глядя на них, сложно распознать конкретную область научных интересов, да и время действия, может, сто лет назад, но может быть, и сейчас. Равно как, слушая единственного одушевленного персонажа, трудно определить степень его одаренности — может быть, перед нами гений, но может быть, и шарлатан. Может быть, научный еретик, но возможно, что начетчик. Впрочем, тексты, которые произносит этот явно одержимый своим делом одиночка, взяты из вполне «надежных» источников — записных книжек ученых Поля Валери и Людвига Витгенштейна, Георга Кристофа Лихтенберга и как раз Макса Блэка, знаменитого, как оказалось, тем, что именно он ввел в научный обиход ставшее базовым понятие неопределенности.
С одной стороны, неопределенность буквально разлита в этом полуторачасовом спектакле, лишенном банально понятной сюжетной основы. С другой стороны, в нем царит предельная точность и аккуратность, иначе бы весь этот механизм застрял очень скоро. Но на сцене ничего не застревает, хотя все время находится в движении и в процессе преобразования — зажигается, взрывается и кружится, одно цепляет и опрокидывает другое,— и человек, все это придумавший, в какой-то момент теряет контроль над происходящим. Можно сказать, что в осознанном движении находится и сценический свет. Весь эксперимент Геббельса начинает казаться приключением по освоению пространства, которое, будучи видимым сначала, оказывается неисчерпаемым источником занятных сюрпризов. Собственно говоря, никто не мешает воспринимать происходящее как чистый аттракцион.
Впрочем, странно было бы предполагать, что у Геббельса получится лишь формальный эксперимент по световому и пиротехническому «озвучиванию» пространства или мрачноватая причуда со всякими фокусами. Единственный упрек, который можно было бы предъявить спектаклю,— переживания, которыми наделяет своего героя Александр Пантелеев, отчего он иногда начинает напоминать не то чеховского потерянного человека, не то гоголевского сумасшедшего. Но его можно и оправдать за попытки передать отчаяние героя, ведь парадоксальные мысли, вложенные в уста персонажа, равно как и парадоксальные действия, которые он производит, свидетельствуют как о тупиках человеческого самоанализа, так и о тщете попыток объяснить мир — калькуляция и систематизация попыток подпереть голову рукой предстает гротескным аналогом упорядоченного научного знания. И трудно рассчитывать, что об этом можно рассуждать с той же холодной бесстрастностью, с которой на экранах появляется английский текст субтитров.

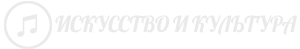







Оставить комментарий