В Театральном музее имени Бахрушина открылась выставка «Иллюзия театра», которая посвящена 200-летию одного из важнейших памятников отечественной театральной культуры — усадебного театра в Архангельском, созданного Пьетро ди Готтардо Гонзагой. Рассказывает Сергей Ходнев.
Маленький деревянный театр в Архангельском так и зовут по имени архитектора, словно парижскую Опера Гарнье,— театром Гонзаги. В принципе мог бы прослыть и театром Юсупова: князь Николай Юсупов, счастливый екатерининский вельможа, в театральных увеселениях знал толк как мало кто в его время, и театр в его собственной усадьбе — та «ученая прихоть», которой он занимался любовно и тщательно.
Описывать его «долгий ясный век» с упоительными европейскими вояжами и близкими знакомствами среди лучших умов эпохи бессмысленно — достаточно просто перечитать пушкинское «К вельможе». Описывать одну только его театральную деятельность бессмысленно тоже, по крайней мере если речь идет о выставке на два небольших зала. Слишком много в этой деятельности сюжетов: администрирование высочайших досугов (он руководил одно время дирекцией императорских театров — первая достопамятная персона на этом посту), интеллектуальное приятельство с крупнейшими драматургами и композиторами (Вольтер, Бомарше, Чимароза), собственные театры в усадьбе и в Москве, которые ему устроить было, кажется, ненамного сложнее, чем нам купить телевизор. А ведь это не только залы со сценами, но и артисты, прекрасно обученные петь по-французски да по-итальянски, изящно декламировать и танцевать. Вопреки распространенному представлению вовсе не все они были вчерашними скотницами и свинопасами, но что помимо нанятых профессионалов труппы эти комплектовались в основном крепостными — это правда. Как и то, что дансерки служили князю своего рода гаремом: из песни о просвещенном крепостничестве слова не выкинешь.
Все это на выставке представлено пунктиром — портреты, пара партитур и либретто, почему-то гусли с крышкой, обклеенной лубочными гравюрами, и книги из княжеской библиотеки, включая, например, горячую новинку 1787 года — русское издание комедии г-на Бомарше «Фигарова женидьба» (так!). Зато театр Гонзаги даже в стесненных экспозиционных условиях запросто кладет театр Юсупова на лопатки.
В одном из отсеков выставки так даже и устроили симулякр театра в Архангельском: оклеили сцены фотообоями с интерьером зрительного зала и показывают на обрамленной занавесом «сцене» анимации с оживающими театральными машинами двух-трехсотлетней давности. Атмосферно, конечно, но невольно свидетельствует о том, что механическое кудесничество (к 1818 году в России уже все-таки довольно давно распробованное) — только одна грань искусства Пьетро Гонзаги, и трудно сказать, насколько судьбоносная.
Гонзага, умерший уже при Николае I, в 1831 году,— во многом дитя XVIII века. Само его многостороннее ремесло — и театр построить, и декорации нарисовать, и машины разработать — кажется почти анахронизмом: таков был типичный круг профессиональных обязанностей театрального художника, скажем, в 1750-е, но в пору романтизма эти квалификации уже норовили разбежаться по разным творческим единицам. Язык его декораций в основе своей тоже взят из практики барокко. Да, формы нарисованной архитектуры другие — неоклассические, ампирные, даже готические. Но принципы как будто бы те же. Великолепное красноречие бесконечных колоннад, выстраивающихся в галереи, нефы, портики, ротонды, их подчас пиранезианская избыточность. Наметанный глаз геометра, мастерски выкладывающего из плоских расписных холстов пугающе убедительные 3D-эффекты. Железные перспективные построения всех этих дворцов, темниц и храмов — то симметричные, то сделанные по схеме scena per angolo, «сцены под углом», великой сценографической новации 1700-х годов, обозначившей перелом барочной эстетики в целом. Наконец, сам культ оптической иллюзии как царицы театрального (и не только, впрочем) искусства.
«По пылкости я во времена рыцарства мог бы сделаться героем и, быть может, крестоносцем во времена крестовых походов»,— признавался сам художник. Его эскизы (а заодно сделанные с них акварели и макеты) напоминают о том, что он все-таки шел дальше, чем барочные театральные живописцы: декорации у него превращаются в нечто большее, чем, пусть и блестящая, «рама» оперного или балетного зрелища. Они сами норовили стать зрелищем, автономным явлением театра: устрашающим, возвышающим, развлекающим, идиллическим, полным совсем не старомодного, а остроактуального чувства того, как взаимодействуют природа, свет, воздух, архитектура и человеческое восприятие.
Гонзага и хотел, чтобы театр в Архангельском стал площадкой для безлюдной сценической феерии, «музыки для глаз», где сменяющиеся на сцене картины оказывались единственным действующим лицом. Но в своей пылкости неверно оценил запросы аудитории. Когда в 1818-м в Архангельское наведались со свитой Александр I и прусский король Фридрих Вильгельм III, публика к «музыке для глаз» оказалась глуха: «Все ожидают сюрприз, и точно сюрприз был полный, переменили три декорации, и весь спектакль готов. Все закусили губы, начиная с государя». Двести лет спустя, кажется, для этих «аналоговых» визуальных чудес уж точно есть зритель. Но нет сцены: в самом театре Гонзаги идет очередной этап продолжающейся уже без малого двадцать лет реставрации.

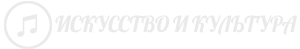







Оставить комментарий