В дни 100-летия Октябрьской революции не прекращаются дискуссии о ее влиянии на судьбу России, политическое, экономическое и культурное развитие страны. О роли художественного слова в политике, а также месте и значимости литературы в современном обществе «Известиям» рассказал директор Института мировой литературы РАН Вадим Полонский.
— Сейчас много спорят о причинах Октябрьской революции и ее роли в истории страны. А могла ли литература как-то повлиять на те события?
— Это вопрос для долгих философских размышлений. Несомненно одно: в ситуации ограничения свободного высказывания общественного мнения — а она была на протяжении всего XIX века — литература становится каналом трансляции смыслов. Тех вещей, которые обычно требуют для самовыражения парламентской трибуны, средств массовой информации. Не всегда в России это было возможно. Во времена царствования Николая I лишь литература была трибуной, с которой можно было адресовать неофициальное послание. Сформировалась роль литературы, выходящая за пределы собственно литературности. В этом смысле российская культура уникальна в Европе того времени. Послания социально-политического и общественного характера впервые проговаривались зачастую именно писателями, а не общественными деятелями.
— Получается, что литература того периода играла роль современных соцсетей?
— В некотором роде да. Интересен феномен массовой литературы. С одной стороны, понятно, что эстетически это обычно продукция второго сорта. Но у нее чрезвычайно интересная социальная роль. Массовая литература, как правило, оказывается гораздо более податливой для усвоения нового в идейном смысле, чем литература высокая. Массовая словесность, в сущности, играет роль медийной ячейки, которая нюхом чует, откуда доносится новый запах. В России XIX века эта ее роль была выражена довольно активно.
Одно из наиболее громко звучащих имен последней трети XIX века — Петр Боборыкин, писатель, которого сегодня практически никто не помнит. В культуру вошло понятие «набоборыкать», то есть сварганить роман на злобу дня — 600 страниц в течение месяца. Именно Боборыкин во многом первым знакомил русскую публику с новейшими идейными явлениями, шедшими с Запада. Ницшеанство, суфражизм и прочие модные идеологические токи зачастую впервые транслировала литература.
Русский писатель был не только писателем, но и философом, общественным деятелем. В этой функции он часто задавал не только смыслы, но и определял векторы движения общественной активности. Под таким ракурсом мы можем говорить, что во многом литература продуцировала будущие катаклизмы, ожидая революции, она во многом ее призывала, порождала.
— А революция дала что-то хорошее культуре?
— Рубеж веков — время чрезвычайно сложное, болезненное, внутренне изощренное и чрезвычайно эстетически богатое. Один из величайших русских романов XX века — «Петербург» Андрея Белого весь исполнен ожиданием катастрофы. Он об имперском организме, беременном катастрофой, крушением. Ожидание катастрофы породило поразительную поэтику, которая во многом предвосхищает дальнейшее мировое искусство XX века. Это был первый кубистический роман мировой литературы. Революция породила уникальное явление ранней советской прозы, которая впервые обкатала художественные конструкции, укрепившиеся в Европе позднее: экспрессионизм, коллажность, поэтика монтажа.
Революция как крупнейшее трагическое событие предопределила язык художественной передачи тотального кризиса, крушения гуманизма. Без опыта русской революции немыслимы Пикассо, немецкий экспрессионизм, поэтика кино, какой она сформировалась в конце концов. Наконец, революция вытолкнула искусство на площадь, заставила говорить с толпой, включила массы в художественную коммуникацию.
— Еще 20–30 лет назад литература играла серьезную социальную роль, сейчас этого нет. Это хорошо, плохо или просто закономерно?
— Это факт. Меняются институции культуры. Это мировой процесс. Уходят в прошлое былые иерархии, мы находимся в точке смены парадигмы культурной модели. Но я не знаю, куда мы движемся. Мне кажется, сегодня этого не видно.
— Мы когда-то считались самой читающей страной, но этот титул давно утратили. С чем это связано? Вряд ли только с развитием технологий. Почему исчезла привычка к чтению?
— Я считаю, что это следствие глубокой социальной травмы, которую наше общество пережило при крушении Советского Союза. Десятки миллионов людей были выброшены в новые условия, и надо было просто выживать. Женщина, которая прежде ходила на службу и читала в перерывах «Новый мир», была вынуждена схватить клетчатую сумку и нестись в Турцию покупать шмотки, чтобы прокормить семью. Ей уже было не до чтения.
— Массовое чтение — прерогатива успешных стран?
— Прерогатива стабильных обществ или обществ, где закрыты другие каналы для трансляции смыслов, как это отчасти было в России до революции. В мире свободы информации литература постепенно обретает роль, которая ей была предписана при начале ее эмансипации из других областей культуры — роль в пространстве чистой эстетики. А потребителей эстетических смыслов не так много.
— В какой период мы возвращаемся, если иметь в виду роль литературы в жизни общества?
— В XVI век, если говорить о Европе. А в чем-то — в ситуацию начала XIX века, когда в Европе формируется массовое чтение, есть рынок этой книжности и есть узкая прослойка интеллектуалов.
— Какое место в вашем личном рейтинге занимает современная русская литература и есть ли авторы, которые, на ваш взгляд, станут классиками?
— Академические ученые — плохой контингент для ответа на подобные вопросы, потому что мы обращены больше в прошлое. У меня не хватает времени следить за актуальным литературным процессом. Мы комментируем памятники и немного снобы в этом отношении. Но я считаю, что Евгений Водолазкин останется, роман «Лавр» останется. Может быть, останется Михаил Шишкин. Говорить, что вижу взошедшие на небосклон звезды, я не могу.
— Недавно вице-премьер Ольга Голодец заявила, что рэп-баттлы формируют в России новый язык, а это приводит к разрыву между поколениями. Но изменения в языке, сказала она, нельзя игнорировать. Как вы считаете, взрослым надо подтягиваться и изучать современный сленг, литературу, тенденции?
— Это слишком упрощенный сценарий. Имеет смысл пытаться пробиться сквозь шелуху к сути вещей. Тот же Оксимирон — феномен, достойный внимания.
— Литературный феномен?
— Да. Оксимирон — литературно изощренный человек. Его тексты хорошо сделаны. С точки зрения техники словесности он мастер, заслуживает серьезного литературного внимания к себе. В то же время он представитель субкультуры, которая воспринимается людьми среднего и старшего поколения как чужая. Субкультура сверхактуальная, с одной стороны, вроде бы мейнстримная, а с другой — специфика современной культурной ситуации состоит в том, что кажущееся мейнстримом в сущности оказывается маргинальным. Оксимирон — это утонченная авангардная культура.
— Вам не кажется, что Оксимирон заменил собой не столько литературу, сколько рок-музыку? Ничего нового наши рок-музыканты не рождают, и он занял эту нишу.
— Да, согласен. Он занял эту нишу в особых российских условиях, когда рок-музыка — это феномен скорее текстовый, а не музыкальный. Я не знаю, что будет завтра — пока мы только нащупываем пути. Субкультура рэп-баттлов — один из векторов движения. Тупиковый ли? Не знаю. При этом она требует определенного культурного уровня, подготовки. Всё это требуется для адекватного восприятия текстов Оксимирона. У человека хорошее образование — это ощутимо.
— Писатели за много лет или даже десятилетий предвидели будущие события, явления. Сейчас есть произведения, которые могут оказаться пророческими?
— Литература всегда предсказывает, и часто это разительно сбывается. Знаменитые слова Ахматовой: «Поэты, не предсказывайте свою смерть — сбывается». Примеров очень много. Любят говорить об Андрее Белом, который предсказал свою смерть от солнца.
А вот свежий пример. Буквально накануне теракта в парижском театре «Батаклан» в России выходит роман Уэльбека Soumission (во Франции он вышел за десять месяцев до теракта. — «Известия»). Время действия — недалекое будущее, начало 2020-х годов. Французский интеллектуал, филолог, исследователь творчества Гюисманса, одинокий человек, страдает от потери смысловых ориентиров. Гюисманс сто с лишним лет назад испытал подобный кризис и нашел выход в католицизме. Герой Уэльбека пытается спастись, реализовав тот же сценарий, но не выходит. На дворе — новая реальность: приход к власти исламистского правительства. Герой Уэльбека слаб, ломается. Он принимает ислам. У него soumission — подчиненность. А после выхода романа произошел теракт в «Батаклане». Уэльбек замолкает, не дает комментариев. Он ошарашен.
— Писателям надо быть осторожнее?
— Конечно.

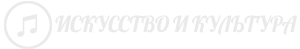







Оставить комментарий