Программы, которые Михаил Плетнев составляет для фестиваля, всегда отличаются оригинальной музыкальной логикой, соединяющей, казалось бы, ничем не связанные между собой партитуры в стройную драматургию. Так, в программе, прозвучавшей на закрытии фестиваля, Михаил Плетнев соединил несколько музыкальных сюжетов: от романтических номеров балетной «Шопенианы» в оркестровке Александра Глазунова до трагических «Симфонических танцев» Сергея Рахманинова, от сарказма и футуризма Первого концерта для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича в исполнении французского пианиста Люки Дебарга, до фортепианного «биса» — частей из Сонатины польского композитора ХХ века Милоша Магина (жившего, как и Шопен, в Париже), модернистски обыгрывающего музыкальные интонации Чайковского, Грига, Шопена.
Между тем, программу заключительного концерта фестиваля открыл торжественный польский Полонез из «Шопенианы», который в исполнении РНО звучал не парадно, а строгим, несколько отрывистым звуком, с плотными красивыми рельефами струнных. Михаил Плетнев выбрал из глазуновской сюиты, вдохновившей в свое время Михаила Фокина на создание балета «Шопениана», три пьесы: Полонез, Вальс и Тарантеллу. Но в своей интерпретации он вернул эти пьесы к концертному формату, показав подробно детали искусной и несколько тяжеловесной оркестровки Глазунова, звучавшей не с тонкими шопеновскими рефлексиями, а в крупном масштабе горделивого и роскошного Вальса и вращающейся Тарантеллы с крепким звоном бубна и ударных.
Первый концерт Шостаковича в исполнении Люки Дебарга таже оказался вне привычной задорной и саркастической интерпретации, представ скорее, как род формального авангардного текста 20-30-х годов, одновременно — полного более поздней трагической рефлексии Шостаковича. Дебарг играл на сниженной динамике, легким, почти моцартовским звуком, растворявшемся в струнном составе оркестра, выстроил медленную часть как Романс, но в третьей части так увлекся утонченной музыкальной «интроспекцией», препарированием, дискретностью, что почти потерял связь с оркестром. Плетнев поддерживал пианиста, открывая, в свою очередь, не только заложенные в партитуре цитаты из Гайдна, Бетховена, народных песен, других сочинений Шостаковича, но и растворенный в оркестровой фактуре фрагмент трепетного малеровского «адажиетто». В энергичном и бодром финале великолепное соло трубы в исполнении Владислава Лаврика вышло на первый план, а у Дебарга каденция прозвучала, словно авторская импровизация, закрепив общий экспериментальный дух этого сочинения.
Но главный свой месседж Михаил Плетнев заложил в интерпретации «Симфонических танцев» Рахманинова. Плетнев вывел здесь образы ностальгического и необъятного рахманиновского «русского мира», с его просторами, колокольностью, протяжной лирикой и «свирельными» наигрышами (саксофон), с его сказочностью, молитвенностью и душевной тоской. Но в его исполнении рахманиновская партитура прозвучала с мрачным, страшным апокалиптическим смыслом. В оркестре — тяжелый пульс «скачки» мистических всадников, сначала быстрым контуром, а потом во всю мощь разворачивающийся мотив Dies Irae (День гнева), громадные свинцовые тутти, медные хоралы и знаменный распев, волны вальса, трубные кличи и красота рахманиновской кантилены, страшный катаклизм третьей части, где обрывались все лирические нити, стучали «кости» ксилофона, раскачивался полуночный колокол, а вместо победительного апофеоза — раздавались страшные удары и звон тамтама, не оставившие в итоге «камня на камне» от всего, что звучало и чем была навеяна эта последняя партитура Рахманинова, написанная им в 1940 году.

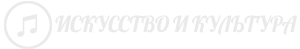







Оставить комментарий