Тогда в Московский театр драмы и комедии пришли Юрий Любимов и молодые актеры, студенты Щукинского училища. В апреле 1964-го сюда перенесли прославивший Любимова щукинский спектакль «Добрый человек из Сезуана», и это считается официальным днем рождения театра. Но началось все раньше, а как это было, помнят немногие, и таких людей все меньше.В числе первых на Таганку пришел студент Щукинского училища Анатолий Васильев, до сих пор работающий в театре.
Как все начиналось?
Анатолий Васильев: Был назначен новый директор театра драмы и комедии, Дупак Николай Лукьянович. Ему посоветовали сделать так, чтобы театр ожил. Он прослышал про наш спектакль в Щукинском училище, который очень хвалили (для «Доброго человека из Сезуана» музыку написали я и Борис Хмельницкий). Посмотрел его. После этого было решено перетащить «Доброго человека» на Таганку. Потом стали приходить люди со стороны, Золотухин, Высоцкий. Кто-то из старого состава остался: Соболев, Смехов, Ронинсон…Чем жила ранняя Таганка, что было главным для людей театра?
Анатолий Васильев: Лет пятнадцать основная доминанта была в том, что мы команда. Люди, которые сидят в окопе и отстаивают свою жизнь. Постоянное ощущение борьбы было. Многое о ранней Таганке говорит удивительная песня Володи Высоцкого «Четыре года в море рыскал наш корсар». Он написал ее, когда нам было четыре года, и пришла весть, что будут снимать Юрия Петровича, а вместо него назначат какого-то кубинского актера. У нас была трагическая ситуация в театре, мы думали, что это конец. Писали письма в ЦК, в Политбюро — выстояли.
Из худших выбирались передряг,
Но с ветром худо, и в трюме течи,
А капитан нам шлет привычный знак:
— Еще не вечер, еще не вечер!
У Юрия Петровича была присказка: «Еще не вечер». Он часто ее повторял.Из этой песни видно, как мы жили первые четыре года Таганки. А почему это ощущение стало уходить?
Анатолий Васильев: Возраст и время. Жены и мужья появляются, затем дети, яйца и сосиски надо варить по утрам. Все тонет в бытовщине. Это не сразу происходило — медленно, потихонечку… Очень грустил по этому поводу Юрий Петрович. Тут нет виноватых, это дело жизни: появляются обиженные, которым не дают ролей, появляются те, у кого ролей много, и они начинают задирать нос… Все, как во всех театрах.
Вениамин Смехов помнит рождение любимовской Таганки, присутствовал и при том, когда ее не стало.Когда Любимов пришел в Московский театр драмы и комедии, вы были его актером. Что это был за театр?
Вениамин Смехов: У Плотникова были очень хорошие актеры. Не было созвучия времени, но это отличало все театры середины шестидесятых. Тогда выделялся Товстоногов, выделялся «Современник», выделялся Эфрос. А в Театре драмы и комедии царствовала романтическая, пафосная интонация. В нем были интриги, была тоска, но была и счастливая молодость: спектакль, который затеял Петр Фоменко, мы репетировали по ночам. А потом парторганизация его закрыла, усмотрев в нем нарушение каких-то своих моральных заповедей. Увидели бутафорскую бутылку из-под коньяка в одной из сцен, которые мы репетировали, и сказали, что мы пьянствуем по ночам…
Так что когда в театр явилась комиссия и решила его реорганизовать, ничего страшного не произошло.Из прежней труппы театра Любимов выбрал 7-8 молодых актеров и 4-5 возрастных. Ему сказали: «Оставьте тех, кто вам нужен» — он их и оставил. Его все равно называли узурпатором, но те, кто ушел, потом не жаловались. Они — по тогдашним законам — были неплохо трудоустроены.
Вы писали, что метаморфоза, которая произошла с Любимовым, труднообъяснима. У него было идеальное советское прошлое: герой-любовник в Театре Вахтангова, лауреат Сталинской премии, член партбюро, заведующий труппой, член художественного совета министерства культуры. И вдруг — полная смена жизненного амплуа. Как такое могло произойти?
Вениамин Смехов: Юрий Петрович был успешен в Театре имени Вахтангова, но за его плечами, еще до вахтанговской школы, были и МХАТ-2, созданный Михаилом Чеховым, и сильные впечатления от эстетики театра Мейерхольда, и этого хватило на всю жизнь. Его стартом была эпоха авангарда, Серебряного века, эйзенштейновского «Октября». Это закрепилось дружбой с Дмитрием Шостаковичем, Николаем Эрдманом и Михаилом Вольпиным во время войны, когда солдат Любимов был артистом фронтового Ансамбля песни и пляски НКВД.
Взрыв в его режиссерской крови произошел на парижских гастролях вахтанговцев, когда они увидели «Вестсайдскую историю» Бернстайна. В этом великом мюзикле присутствовало то соединение жанров и театральных форм, которые волновали Юрия Петровича в мейерхольдовских спектаклях.
Сила Любимова была еще и в том, что он поработал в кино, и монтажный прием для него был органичен. И он был очень смел в этом соединении элементов театра, пластики, музыки и света. При этом Любимов никогда не учился ни музыке, ни режиссерской профессии.
И Анатолий Эфрос, и Олег Ефремов, да и все мастера-режиссеры были восхищены «Добрым человеком». И при этом у них не было ни тени ревности. Ибо Любимов был никто — актер, которому вдруг удалось прорваться.
И Ефремов что-то брал от Любимова, и Товстоногов, и Эфрос. Товстоногов даже написал на стене в его кабинете: «Ваши спектакли всегда — заноза в мозг».А Эфрос свой знаменитый спектакль «Снимается кино» — очень хороший, замечательный — сделал, откровенно копируя любимовский дизайн.

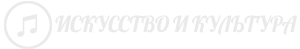







Оставить комментарий