Фестиваль Российского национального оркестра (РНО) в зале Чайковского и в трансляциях завершился Большой до-минорной мессой Моцарта с Михаилом Плетневым за пультом РНО, Юрловской капеллой и солистами во главе с Венерой Гимадиевой и Юлией Лежневой. Весь фестиваль вписался во временное окно между локдауном и новыми пандемическими ожиданиями, но, как считает Юлия Бедерова, стал событием не только поэтому.
В 1783 году, когда Василий Пашкевич писал для театра «Тунисского пашу», Андре Гретри — «Караван Каира», Бетховен — детские сонаты и современная музыка за редкими исключениями безраздельно господствовала на сценах и в умах, молодой Моцарт, отложив в сторону наброски «Каирского гуся», вдруг погрузился в практические исследования барочных стилей и партитур Баха и Генделя. Всему виной — деятельность дипломата, интеллектуала, пропагандиста забытых партитур барокко и нового типа слушания музыки (молча), а также покровителя венских классиков барона ван Свитена. Его концертные собрания, где звучали Гендель и Бах, слыли и архаическими, и модными, маргинальными и элитарными одновременно.
Следы влияния ван Свитена наполняют неоконченную Большую мессу виртуозной полифонической лепкой, причудливо смешанной с ариозной оперной изысканностью и дворцовой инструментальной галантностью. Моцартовский маскарад манер и жанров, когда под одной маской открывается другая, в случае с до-минорной мессой был, как считается, посвящен молодой жене (лирический тон предположительно отсюда), но служил еще знаком прощания с зальцбургской службой при архиепископском дворе, где были написаны остальные мессы, сыновнего почитания и наступления новой, венской жизни. В ней светские и литургические маски стилей у Моцарта свободно переговаривались одна с другой, а полифоническое письмо и церковные идиомы, закутанные в театральные плащи, проникали в оперы и симфонии.
Большая месса с ее композиционной механикой норматива и эксперимента звучит собранием эскизов к прошлому и будущему — от «Дон Жуана» до последней порции клавирных концертов. Но ее оперная чувствительность и церемониальная пестрота вызывали в следующих поколениях одно разочарование: в отличие от Реквиема, она не вошла в романтические хрестоматии. Ее возвращение на сцены началось в XX веке, и теперь это едва не репертуарный шлягер, причем по простой причине: одним Реквиемом сыт не будешь.
Большая месса существует в большом количестве ученых редакций и исполнительских версий. Порой они намеренно скрывают, но редко когда успешно ретушируют стилистическую неоднородность произведения, где что ни фуга, сицилиана или пассакалья, то сценический характер, драматургически изящно прописанный персонаж.
Далекие от принципов историзма плетневские музыканты между тем были по-аутентистски чутки к нежной веселости моцартовского плетения манер. Акустически вязкое, эмоционально полновесное хоровое звучание Юрловской капеллы вместе с аккуратно-певучей инструментальной артикуляцией галантных фактур в оркестре могли бы, кажется, сплетаться в весьма неуютный, разношерстный ковер. Так же как голоса солистов в диапазоне от лирико-драматического стиля Гимадиевой до инструментальной отстраненности Лежневой и русского акцента мужских голосов (Алексей Курсанов, Игорь Коростылев) могли бы перечить друг другу. Но нет. Всю эту разномастную звуковую компанию Плетнев последовательно, не без явного удовольствия и без спешки — будь то минутный пространственный хоровой этюд или долгие сольные юбиляции, диалоги вокальных и оркестровых голосов, особенно чуткие у деревянных духовых,— собирал в устойчивую конструкцию: смесь кантилены, театральной мизансцены и витража. В литургической партитуре Моцарта нетеатральный дирижер Плетнев находил больше театра, чем можно было представить, нанизывал части на паузы, давал полюбоваться ортодоксальностью и причудливостью формальной мозаики. Здесь самый скромный эпизод-персонаж словно специально тянул сценическое время и бесконечно рифмовался с самим собой и другой музыкой фестиваля — от Шуберта и Бетховена до Штрауса и Бизе на территории между молитвой и театром.

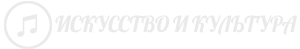







Оставить комментарий